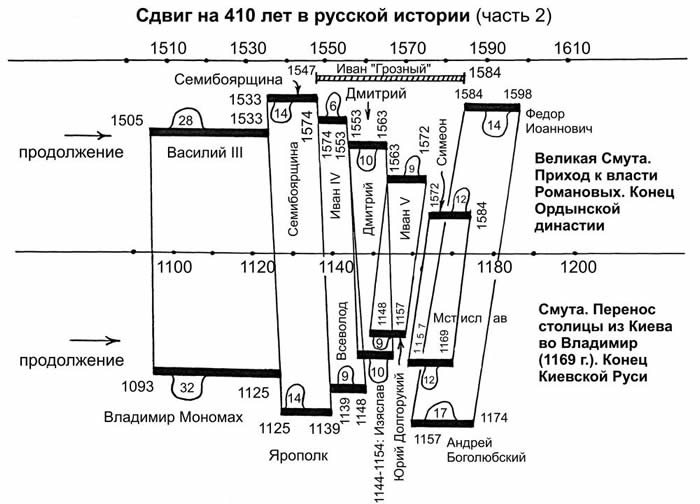Спойлер
Одним из ярких примеров культурно-исторического разрыва между «картинами мира» автора текста исторического источника и изучающего его историка являются недоразумения, связанные с попытками исследователей понять политику Ивана IV, известную под названием опричнина. Главные вопросы, которые их волнуют: причины ее введения в 1565 г. и отказа от нее в 1572 г. (вплоть до запрета упоминания самого слова опричнина), смысл проводившихся в эти годы мероприятий. По словам великого русского историка В.О. Ключевского, «учреждение это всегда казалось очень странным как тем, кто страдал от него, так и тем, кто его исследовал»309. Заметим, однако, что это утверждение не распространяется на того, кто его инициировал и проводил. Иван Грозный, скорее всего, вовсе не считал опричнину странной. Напротив, для него в ней, несомненно, просматривалась своя достаточно жесткая логика.
О смысле опричной «политики» споры ведутся уже не одно столетие. Одни историки считали, что царь таким образом боролся против «реакционного» боярства, опираясь на «прогрессивное» дворянство, другие полагали, что речь шла о борьбе с удельными порядками, третьи — что царь стремился избавиться от своих политических соперников (прежде всего, удельных князей и наиболее влиятельных бояр), четвертые — что тем самым Иван старался укрепить свою абсолютную власть... Однако ни одна из этих точек зрения не охватывала все, что известно нам об опричнине. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что в опричное войско вхо¬дили не только дворяне, но и бояре (в том числе и наиболее родовитые), а репрессиям подвергались не только бояре (вместе с семьями, включая ма¬лолетних детей), но и их слуги, среди которых было немало дворян; к тому же многие опричники, в том числе те, кто играл в войске царя едва ли не ведущие роли, также были казнены; после смерти Ивана уделов оказалось больше, чем во время его прихода к власти; личная власть царя не была ничем ограничена и без опричных казней310.
Серьезный шаг к пониманию того, что стояло за одним из самых кровавых процессов в истории Древней Руси, сделал в свое время А.Л. Юрганов311. Он обратил внимание на описание Опричного дворца, оставленного одним из очевидцев событий того времени, немцем-опричником Генрихом Штаденом. Приведем его полностью:
«Великий князь приказал разломать дворы многих князей, бояр и торговых людей на запад от Кремля на самом высоком месте в расстоянии ружейного выстрела; очистить четыреугольную площадь и обвести эту площадь стеной; на 1 сажень от земли [выложить ее] из тесаного камня, а еще на 2 сажени вверх — из обожженных кирпичей; наверху стены были сведены остроконечно, без крыши и бойниц <...>; [протянулись они] приблизительно на 130 саженей в длину и на столько же в ширину, с тремя воротами: одни выходили на восток, другие — на юг, третьи — на север. Северные ворота находились против кремля и были окованы железными полосами, покрытыми оловом <...>. На этом дворе были выстроены три мощные постройки, и над каждой наверху на шпице стоял двуглавый чер¬ного цвета орел из дерева, с грудью, обращенной к земщине. От этих главных построек шел переход через двор до юго-восточного угла. Там, перед избой и палатой, были выстроены низкие хоромы с клетью вровень с землей. На протяжении хором и клети стена была сделана на полсажени ниже для [доступа] воздуха и солнца. Здесь великий князь обычно завтракал или обедал. Перед хоромами был погреб, полный больших кругов воску. Такова была особная площадь великого князя. В виду сырости она была засыпана белым песком <...>. Южные ворота [— калитка] были малы: только один и мог в них въехать иди выехать. Здесь были выстроены все приказы и ставились на правеж должники, которых били батогами или плетьми <...>. Здесь подписывались все челобитья опричников и отсылались в земщину, и что было здесь подписано, то было уж справедливо и в силу указа в земщине тому не перечили. <...> Снаружи слуги князей и бояр держали их лошадей: когда великий князь отправлялся в земщину, то [верхом] они могли следовать за ним только вне двора. Через восточные ворота князья и бояре не могли следовать за великим князем — ни во двор, ни из двора: [эти ворота были] исключительно для великого князя, его лошадей и саней. Так далеко простирались постройки на юг. Дальше была калитка, изнутри за¬битая гвоздями. На западной стороне ворот не было; [там была] большая площадь, ничем не застроенная. На севере были большие ворота, обитые железными полосами, покрытыми оловом. Здесь находились все поварни, погреба, хлебни и мыльни. Над погребами <...> были сверху надстроены большие сараи с каменными подпорами из досок, прозрачно прорезан¬ных в виде листвы <...>. Здесь была калитка, чтобы с поварен, погребов и хлебен можно было доставлять еду и питье на правый [великокняжеский] двор. Хлеб, который он [великий князь] ест сам, — несоленый. Здесь были две лестницы [крыльца]; по ним можно было подняться к большой палате. Одна из них была против восточных ворот. Перед ними находился маленький помост, подобный четырехугольному столу: на него всходит великий князь, чтобы сесть на коня или слезть с него. Эти лестницы поддерживались двумя столбами, на них покоилась крыша и стропила. Столбы и свод были украшены резьбой под листву. Переход шел кругом всех покоев и до самых стен. Этим переходом великий князь мог пройти сверху от покоев по стенам в церковь, которая стояла вне ограды перед двором на востоке. Церковь эта была выстроена крестообразно и фундамент ее шел вглубь на 8 дубовых сваях; три года она стояла непокрытой <...>. Другая лестница [— крыльцо] была по правую руку от восточных ворот. Под этими двумя лестницами и переходами держали караул 500 стрелков; [они же несли] и все ночные караулы в покоях или палате, где великий князь обычно ел. На южной стороне ночью держали караулы князья и бояре»312.
Юрганов обратил внимание на то, что ряд деталей этого описания (квадратная форма дворца; трое ворот, выходивших на север, юг и восток, отсутствие западных ворот; то, что через восточные мог въезжать только великий князь и т.п.) соответствует описанию Града Божьего313 в видении пророка Иезекииля314. Однако при этом из поля зрения выпал целый ряд чрезвычайно важных «мелких» деталей, а часть из них получила весьма произвольную интерпретацию.
Рассмотрим некоторые из таких сюжетов. Прежде всего, Град Божий, явленный Иезекиилю, считался и считается прообразом Третьего Храма Иерусалимского, который, по преданию, будет построен либо самим царем-помазанником (что станет свидетельством, что он Мессия), либо непосредственно перед приходом Мессии. Об этом, в частности, писал Маймонид, некоторые сочинения которого были переведены на Руси еще в XV в. (известен единственный западнорусский спи¬сок Логики Моисея Маймонида, или Моисея Египтянина, как его называет создатель рукописи, относящийся к первой половине XVI в.)315. Правда, согласно христианской традиции, в Третьем Храме должен был воцариться лжемессия, Антихрист. Тем не менее это должно было служить одним из важнейших признаков скорого (через три с половиной года) Второго пришествия Спасителя.
В связи с этим строительство Опричного дворца царем-помазанником (венчание на царство Ивана Грозного произошло 16 января 1547 г.316) вполне могло рассматриваться в свете подобных представлений.
Кстати, фундамент Храма Господня, который был построен по распоряжению Соломона, должен был быть из тесаного камня317, что еще больше сближает описание Опричного дворца с образом Храма Иерусалимского.
Следовало бы тщательнее проанализировать и размеры Опричного дворца, указанные Штаденом. Как мы помним, он упомянул, что стены дворца протянулись «приблизительно на 130 саженей в длину и на столько же в ширину». Судя по всему, А.Л. Юрганов так и не смог согласовать очевидное, казалось бы, расхождение этих размеров с упоминанием протя¬женности стен Храма, который описывает Иезекииль: по 500 локтей в длину и в ширину318. Выход из видевшегося ему противоречия историк предложил довольно своеобразный: «Г. Штаден обратил внимание на то, что царя во дворце охраняли 500 стрелков: они несли “все ночные караулы в покоях или палате, где великий князь обычно ел”. В послании Таубе и Крузе сообщается: “Он, великий князь, образовал из них [опричников. — А. Ю.] над всеми храбрыми, справедливыми, непорочными полками свою особую опричнину, особое братство, которое он составил из пятисот молодых людей <...>. Все братья... должны носить длинные черные монастырские посохи с острыми наконечниками”. В двух независимых источниках, таким образом, называется одна и та же цифра <...>. В опричном монастыре и в Опричном дворце было не только 500 братьев, но и 500 посохов-тростей. Едва ли такая деталь случайна, хотя обнаруженная связь, по всей видимости, сугубо символическая». Таким образом, исследователь «превратил» монастырские посохи опричников в мерные трости, которыми проводил некий муж измерения для Иезекииля и тем самым, как ему кажется, разре¬шил расхождение в размерах Опричного дворца, упомянутых Штаденом, и Дома Господня из видения Иезекииля319.
Действительно, в синодальном переводе Библии размеры Храма Господня даются не в локтях, а в мерных тростях320. Однако в тексте, бытовавшем во времена Ивана Грозного321, размеры Храма приводятся именно в локтях, хотя упоминается и мерная трость: «И в руцЪ мужу мЪра тростяна шести лактъ и пяди»322. Штаден же дает размеры стен Опричного дворца в саженях. На эту деталь А.Л. Юрганов внимания не обратил. Между тем локти (точнее, локоть с пядью), которыми измеряется Храм, равняются для древнерусского читателя приблизительно 57 см: 38 см (локоть) + 19 см (пядь). Следовательно, 500 локтей составляют около 285 м (57 х 500). Сажень же, которой измеряет («приблизительно»!) стены Опричного дворца Штаден, равняется 216 см (так называемая новая сажень, использовавшаяся в XVI в.). 130 таких саженей составляют чуть больше 280 м. Во всяком случае, в древнерусских саженях содержалось по 4 локтя, т.е. 500 локтей приблизи¬тельно равны для древнерусского человека 130 саженям (500 : 4 = 125). Так что размеры дворца, построенного по приказанию Ивана Грозного, прак¬тически точно соответствуют представлениям читателя XVI в. о размерах Храма, описываемого Иезекиилем.
Произвольно были истолкованы А.Л. Юргановым также изображения льва и двуглавого орла, украшавшие Опричный дворец. С одной стороны, исследователь вполне справедливо отмечает: «Чтобы объяснить значения льва и двуглавого орла в системе уже показанных нами символов Опричного дворца, следует обратиться к религиозной основе этих образов»323. С другой — тексты, которые рассматриваются им в качестве такой основы, вызывают по меньшей мере сомнения.
«В Откровении Иоанна Богослова читаем: “И посреде престола и окрест престола [Божия. — А. Ю.] четыри животна исполнена очесь спреди и созади” (Откр. 4: 6). Этими животными были лев, телец, человек (“тре- тие животно имуще лице яко человек”) и орел. Зеркала в глазницах льва, смотрящих вовнутрь дворца и в сторону земщины, как бы подчеркивали, что первое апокалиптическое животное “исполнено очесь”. Первую печать “книги жизни” снял именно лев. Снятие второй печати тельцом символизировало, согласно толкованию Андрея Кесарийского, “священные жертвы святых мучеников”; третьим животным, снявшим печать, был человек <...>. Любопытнее всего, как определяется в Откровении четвертое жи-вотное, снимающее печать: “И четвертое животно подобно орлу летящу” (Откр. 4: 7) <...>. В лицевых апокалипсисах XVI в. орел изображался с распростертыми крыльями. Именно вслед за открытием четвертой печати по¬является новая фигура, что само по себе симптоматично, если иметь в виду царский замысел: “И видех, и се, конь блед, и сидящий на нем, имя ему смерть: и ад идяше в след его; и дана бысть ему область на четвертой части земли” (Откр. 6: 8). Итак, двуглавый черный орел с “распростертыми крыльями” (т.е. летящий), обращенный в сторону земщины, имеет помимо ге¬ральдической символику апокалиптическую: это образ адского наказания, которое настигнет неизбежно в последние времена»324.
И далее: «В “Беседе трех святителей” <...> Соломон спросил: “Что суть 4 рози [образа. — А. Ю.] на земли? — Иоанн рече: ‘Четыре евангелисты, на востоце Матфей, человеческим; на западе Марко, телчим; на севере Иоанн, орлим; на юзе Лука, лвовым образми, вси бо крылата’ ”. Подобные представления были традиционными, а потому можно предполагать их осуществле¬ние в Опричном дворце Ивана Грозного. Восточная сторона — “человеческая”; западная олицетворяла собой тельца и Второе пришествие Христово; северная — связана с образом орла. Южная сторона не случайно представ¬лена образом льва. Кроме того, орлы на всех трех башнях дворца были так¬же связаны с символическим значением имени Иоанна Богослова»325.
Юрганова не смущает целый ряд принципиальных несоответствий текстов, которые он использует для объяснения символических фигур, с описанием Штадена. Прежде всего, Штаден упоминает не четыре, а лишь два изображения животных. Кроме того, все животные (в том числе изо¬бражение, напоминающее льва), согласно тексту Апокалипсиса, на который опирается А.Л. Юрганов, должны иметь по шесть крыльев «вокруг», а «внутри» «исполнены очей спереди и сзади»326. Но ни одного из этих призна¬ков Штаден не упоминает. Наконец, четвертое животное, о котором идет речь в Апокалипсисе, мало похоже на двуглавого орла, это даже не вполне орел (оно лишь «подобно орлу»). Единственно, что роднит его с орлами Опричного дворца — распростертые крылья. Хотя этот — существенный, по мнению А.Л. Юрганова, — признак вовсе не свидетельствует о том, что Штаден пишет о летящих двуглавых созданиях. О двух же головах орлов, украшающих Опричный дворец, Юрганов предпочитает не вспоминать, видимо считая эту «мелочь» (по сравнению с распростертыми крыльями) несущественной.
Гораздо более плодотворным представляются в данном случае поиски библейского текста, в котором упоминались бы только два животных: лев и двуглавый орел.
Он достаточно хорошо известен. Речь идет о библейской 3-й книге Ездры. В 11-12 главах ее повествуется о видении трехглавого орла, который был побежден львом. Смысл видения Ездры объясняется так: «Орел, которого ты видел восходящим от моря, есть царство, показанное в видении Даниилу, брату твоему327<...>. А что ты видел три головы покоящиеся, это означает, что в последние дни царства Всевышний воздвигнет три царства и покорит им многие другие, и они будут владычествовать над землею и обитателями ее с большим утеснением, нежели все прежде бывшие; поэтому они и названы головами орла, ибо они-то довершат беззакония его и положат конец ему <...>. Лев, которого ты видел поднявшимся из леса и рыкающим, говорящим к орлу и обличающим его в неправдах его всеми словами его, которые ты слышал, это — Помазанник, сохраненный Всевышним к концу против них и нечестий их, который обличит их и представит пред ними притеснения их. Он поставит их на суд живых и, обличив их, накажет их»328.
Образ трехглавого орла тесно связан с «теорией» последнего третьего царства и вполне отчетливо ориентирован на эсхатологические ожидания, приобретшие особую остроту во второй половине XV — XVI в. Этот символ послужил основой для многочисленных толкований (подчас прямо проти¬воположных) в русской богословской среде конца XV — XVII в.329 Тем не менее текст 3-й книги Ездры не принято использовать для интерпретации образа двуглавого орла. Причиной этого, видимо, стали три фактора.
Во-первых, считается, что ни греческий330, ни славянский331 тексты 3-й книги Ездры не были известны на Руси до 1499 г. Только при подготов¬ке Геннадиевской Библии она была переведена с латинской Вульгаты. Это, в частности, подтверждается тем, что в Изборнике 1073 г. в индексах реко¬мендованных и запрещенных для чтения религиозных книг332, упоминание 3-й книги Ездры отсутствует.
Во-вторых, смущает различие числа голов у «опричного» орла и орла Ездры. Так, говоря об отождествлении некоторыми новгородцами и псковичами — членами геннадиевского кружка — двуглавого орла, ставшего гербом Московского царства, и Антихриста (с опорой на 3-ю книгу Ездры), Т.А. Опарина замечает: «Не ясно, видели ли авторы подобных концепций несогласование между двуглавым орлом герба и треглавым III книги Ездры. Возможно, им было важно лишь то, что орел на гербе был многоглавым»333.
Наконец, в-третьих, по мнению Д. Стремоухова, которое разделяют многие исследователи, первоначально восприятие двуглавого орла (как, кстати, и отождествление Москвы с Третьим Римом) носило антимосков- скую окраску334.
Несмотря на всю резонность этих соображений, представляется, что определенные основания для связи изображения двуглавого орла именно с текстом 3-й книги Ездры все-таки имеются.
Прежде всего, следует учитывать, что многоглавые орлы встречаются и в относительно ранних письменных источниках, появившихся на территориях, поддерживавших контакты с католической Европой, где знаком¬ство с 3-й книгой Ездры могло состояться значительно раньше. Так, при описании строительства, которое велось в Холме Даниилом Галицким всамом конце 50-х годов XIII в., летописец рассказывает, что на расстоянии поприща от города был поставлен «столп <...> камен, а на немь орел камен изваян <...> с головами»335. При анализе этого сообщения Ю.А. Артамо¬нов обратил внимание на любопытную деталь: летописец, говоря о головах орла, употребил множественное число («головами»)336. Упоминание не¬скольких голов у холмского орла вполне может быть связано с семантикой образа двуглавого орла в контексте указанного ветхозаветного текста.
Дело в том, что третья — средняя и самая большая — голова орла, о котором идет речь в 3-й книге Ездры, «внезапно исчезла» и «оставались две головы, которые <...> царствовали на земле и над ее обитателями»337. Таким образом, орел Ездры мог изображаться с невидимой третьей головой: как двуглавый. Косвенно об этом свидетельствуют государственная печать самого Ивана IV, на которой присутствует одна большая корона между го¬ловами орла338, а также изображения восьмиконечного креста на голгофе, помещенного между двумя орлиными головами, на печатях Федора Ива¬новича (1585), Бориса Годунова (1602), Лжедмитрия I (1606), Василия Шуй¬ского (1606) и Михаила Федоровича (1636) и, наконец, появление на этом месте на печатях Алексея Михайловича (1654 и 1672) большой третьей ко¬роны, которая сохраняется и в более позднее время, иногда полностью за¬мещая короны или венцы над двумя головами орла339.
Наконец, очевидно, что сам ветхозаветный образ трехглавого орла мог восприниматься неоднозначно (как и связанная с ним «теория» третьего царства). Мало того, даже в одной и той же социальной среде его интер¬претация могла серьезно изменяться340. «Промосковский» или, напротив, «антимосковский» характер этого символа не мог быть задан изначально341. Его семантическое наполнение должно исследоваться специально в каждом отдельно взятом случае.
Обращение к тексту 3-й книги Ездры представляется более продуктив¬ным и логичным для истолкования изображений льва и двуглавого орла, украшавших Опричный дворец. Мало того, этот текст позволяет вплотнуюзаняться вопросом о том, почему, скажем, все двуглавые орлы Опричного дворца были обращены грудью в сторону земщины, а лев — вовне и внутрь дворца...
Теперь обратимся к дате введения опричнины. Как отмечает А.Л. Юрганов, «мы никогда до конца не узнаем, в какой момент и почему царь решил ввести опричнину»342. Однако момент был выбран вполне опреде¬ленный — и, скорее всего, не случайно. По широко распространенным в первой половине XVI в. представлениям, очередной — и, как считали, по¬следней — потенциальной датой Конца света должен был стать 7077 (1569) год343. Однако ему, согласно христианской доктрине, должно было предше¬ствовать «малое время», на которое устанавливается владычество дьявола: три с половиной года. Исходя из этого, дата введения опричнины также представляется вполне логичной и понятной: она учреждается ровно за три с половиной года до ожидающегося конца человеческой истории (что также выпало из рассуждений А.Л. Юрганова).
Не менее любопытным представляется и то, что незадолго до начала опричных мероприятий, в 1549 или в 1550 г. в Москве появляется еще одно довольно странное сооружение: на Пожаре (Красной площади) возводится Лобное место344. Назначение его неясно. Широко распространено мнение, что это было место казней, где рубили или «складывали» «лбы» (головы), отчего оно и называлось Лобным. Обращается также внимание на то, что во многих актах Лобное место называется «Царским». Это принято связы¬вать с тем, что там устанавливали некое «царское место», с которого госу¬дарь объявлял свою волю.
Однако в предлагаемом нами контексте это сооружение приобретает несколько иной смысл, который подтверждается источниками: «Есть же Голгофа мЪсто, идЪже распятся Господь, камень кругомъ высокъ, иже на- рицается Голгофа, исподи же, подъ распятхемъ, ид'Ьже есть глава Адамля, то нарицается Крашево мЪсто, иже есть Лобное...»345 Соответственно, этоместо — место распятия Христа — могло называться «Лобным», поскольку под ним был захоронен, согласно преданию, Адам, а также «Царским», по¬скольку оно связано с Царем Славы346.
Примерно в это же время на подъезде к Москве появляется и еще один «иерусалимский» топоним: Поклонная гора, которая впервые упоминается в так называемой Хронике Быховца, написанной в XVI в. Связь этого топо¬нима с иерусалимской Поклонной горой не вызывает сомнения.
Судя по всему, в преддверии грядущего Конца света Москва отстраи¬валась как столица последнего царства, во главе которого стоял царь- помазанник, взявший на себя функции спасителя своих подданных.
Об этом свидетельствует и косвенная характеристика Ивана IV в летописном рассказе о поводе для развода Василия III и Соломонии Сабуровой, который появился во второй редакции 1547 г. Псковской I летописи (Пого¬динский список): «Того же л'Ьта [7031/1523] поеха князь великии, царь всея Роусии, в объездъ; бысть же шествовати емоу на колесницы позлащеннеи ороужницы с ним, яко же подобает царем; и возрТвше на небо и вид'Ьв гнездо птиче на древе, и сотвори плач и рыдание велико, в себъ глаголюще: “Люте мн'Ь, кому оуподоблюся аз; не оуподобихся ни ко птицам небесным, яко птицы небесный плодовити суть, ни зверем земным, яко зв'Ьри зем- нии плодовити суть, не оуподобихся аз никому же, ни водам, яко же воды сиа плодовити суть, волны бо их утЪшающа и рыбы их глумящеся; и по- смотря на землю и глаголя: Господи, не уподобихся аз ни земли сеи, яко и земля приносить плоды своя на всяко время, и тя благословять, Господи”. И при'Ьха князь великии тоя осени из объезда к Москве и начата думати со своими бояры о своей великой княгине Соломонеи»347.
Часто этот рассказ транслируется историками буквально348. Однако это не что иное как перифраз апокрифического Протоевангелия Иакова: «И огорчилась очень Анна, но сняла свои одежды, украсила свою голову, надела одежды брачные и пошла в сад, гуляя около девятого часа, и увидела лавр, и села под ним и начала молиться Господу, говоря: “Бог моих отцов, благослови меня и внемли молитве моей, как благословил ты Сарру и дал ей сына Исаака. И, подняв глаза к небу, увидела на дереве гнездо воробья и стала плакать, говоря: Горе мне, кто породил меня? Какое лоно произвело меня на свет? Ибо я стала проклятием у сынов Израиля, и с осмеянием меня отторгли от храма. Горе мне, кому я подобна? Не подобна я птицам не¬бесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у тебя, Господи. Не подобна я и тварям бессловесным, ибо и твари бессловесные имеют потомство у тебя, Господи. Не подобна я и водам этим, ибо и воды приносят плоды у тебя, Господи. Горе мне, кому подобна я? Не подобна я и земле, ибо земля приносит по поре плоды и благословляет тебя, Господи”»349.
Ключом к пониманию смысла такого воспроизведения апокрифиче¬ского текста в летописном рассказе служит ответ, который, согласно Протоевангелию Иакова, получила Анна: «И тогда предстал пред ней ангел Господней и сказал: “Анна, Анна, Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире”»350. Речь идет о том, что Анна станет матерью Богородицы, а потомством ее будет Спаситель. Такое понимание рассказа Псковской I летописи подтверждает наши выводы, следующие из сопоставления ретроспективной информации, сохранившейся как в письменных, так и в материальных источниках XVI в., об идеологии, которая легла в основу опричных мероприятий Ивана IV.
Другими словами, летописец вполне определенно охарактеризовал сына Василия III как полномочного представителя Спасителя (если не как самого Спасителя), который устроил для своих подданных «своеобразное русское чистилище перед Страшным судом»351. Когда же Иван IV убедился в том, что Господь не принял его претензию на роль Спасителя (что, в частности, выразилось в сожжении Опричного дворца отрядами Девлет- Гирея сразу по прошествии «последней» потенциальной даты Конца света), опричнина была отменена, а царь начал каяться в содеянном...
В таком контексте все составляющие опричнины — от момента ее введения до конкретных деталей и отмены — приобретают логику и последо¬вательность.
О смысле опричной «политики» споры ведутся уже не одно столетие. Одни историки считали, что царь таким образом боролся против «реакционного» боярства, опираясь на «прогрессивное» дворянство, другие полагали, что речь шла о борьбе с удельными порядками, третьи — что царь стремился избавиться от своих политических соперников (прежде всего, удельных князей и наиболее влиятельных бояр), четвертые — что тем самым Иван старался укрепить свою абсолютную власть... Однако ни одна из этих точек зрения не охватывала все, что известно нам об опричнине. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что в опричное войско вхо¬дили не только дворяне, но и бояре (в том числе и наиболее родовитые), а репрессиям подвергались не только бояре (вместе с семьями, включая ма¬лолетних детей), но и их слуги, среди которых было немало дворян; к тому же многие опричники, в том числе те, кто играл в войске царя едва ли не ведущие роли, также были казнены; после смерти Ивана уделов оказалось больше, чем во время его прихода к власти; личная власть царя не была ничем ограничена и без опричных казней310.
Серьезный шаг к пониманию того, что стояло за одним из самых кровавых процессов в истории Древней Руси, сделал в свое время А.Л. Юрганов311. Он обратил внимание на описание Опричного дворца, оставленного одним из очевидцев событий того времени, немцем-опричником Генрихом Штаденом. Приведем его полностью:
«Великий князь приказал разломать дворы многих князей, бояр и торговых людей на запад от Кремля на самом высоком месте в расстоянии ружейного выстрела; очистить четыреугольную площадь и обвести эту площадь стеной; на 1 сажень от земли [выложить ее] из тесаного камня, а еще на 2 сажени вверх — из обожженных кирпичей; наверху стены были сведены остроконечно, без крыши и бойниц <...>; [протянулись они] приблизительно на 130 саженей в длину и на столько же в ширину, с тремя воротами: одни выходили на восток, другие — на юг, третьи — на север. Северные ворота находились против кремля и были окованы железными полосами, покрытыми оловом <...>. На этом дворе были выстроены три мощные постройки, и над каждой наверху на шпице стоял двуглавый чер¬ного цвета орел из дерева, с грудью, обращенной к земщине. От этих главных построек шел переход через двор до юго-восточного угла. Там, перед избой и палатой, были выстроены низкие хоромы с клетью вровень с землей. На протяжении хором и клети стена была сделана на полсажени ниже для [доступа] воздуха и солнца. Здесь великий князь обычно завтракал или обедал. Перед хоромами был погреб, полный больших кругов воску. Такова была особная площадь великого князя. В виду сырости она была засыпана белым песком <...>. Южные ворота [— калитка] были малы: только один и мог в них въехать иди выехать. Здесь были выстроены все приказы и ставились на правеж должники, которых били батогами или плетьми <...>. Здесь подписывались все челобитья опричников и отсылались в земщину, и что было здесь подписано, то было уж справедливо и в силу указа в земщине тому не перечили. <...> Снаружи слуги князей и бояр держали их лошадей: когда великий князь отправлялся в земщину, то [верхом] они могли следовать за ним только вне двора. Через восточные ворота князья и бояре не могли следовать за великим князем — ни во двор, ни из двора: [эти ворота были] исключительно для великого князя, его лошадей и саней. Так далеко простирались постройки на юг. Дальше была калитка, изнутри за¬битая гвоздями. На западной стороне ворот не было; [там была] большая площадь, ничем не застроенная. На севере были большие ворота, обитые железными полосами, покрытыми оловом. Здесь находились все поварни, погреба, хлебни и мыльни. Над погребами <...> были сверху надстроены большие сараи с каменными подпорами из досок, прозрачно прорезан¬ных в виде листвы <...>. Здесь была калитка, чтобы с поварен, погребов и хлебен можно было доставлять еду и питье на правый [великокняжеский] двор. Хлеб, который он [великий князь] ест сам, — несоленый. Здесь были две лестницы [крыльца]; по ним можно было подняться к большой палате. Одна из них была против восточных ворот. Перед ними находился маленький помост, подобный четырехугольному столу: на него всходит великий князь, чтобы сесть на коня или слезть с него. Эти лестницы поддерживались двумя столбами, на них покоилась крыша и стропила. Столбы и свод были украшены резьбой под листву. Переход шел кругом всех покоев и до самых стен. Этим переходом великий князь мог пройти сверху от покоев по стенам в церковь, которая стояла вне ограды перед двором на востоке. Церковь эта была выстроена крестообразно и фундамент ее шел вглубь на 8 дубовых сваях; три года она стояла непокрытой <...>. Другая лестница [— крыльцо] была по правую руку от восточных ворот. Под этими двумя лестницами и переходами держали караул 500 стрелков; [они же несли] и все ночные караулы в покоях или палате, где великий князь обычно ел. На южной стороне ночью держали караулы князья и бояре»312.
Юрганов обратил внимание на то, что ряд деталей этого описания (квадратная форма дворца; трое ворот, выходивших на север, юг и восток, отсутствие западных ворот; то, что через восточные мог въезжать только великий князь и т.п.) соответствует описанию Града Божьего313 в видении пророка Иезекииля314. Однако при этом из поля зрения выпал целый ряд чрезвычайно важных «мелких» деталей, а часть из них получила весьма произвольную интерпретацию.
Рассмотрим некоторые из таких сюжетов. Прежде всего, Град Божий, явленный Иезекиилю, считался и считается прообразом Третьего Храма Иерусалимского, который, по преданию, будет построен либо самим царем-помазанником (что станет свидетельством, что он Мессия), либо непосредственно перед приходом Мессии. Об этом, в частности, писал Маймонид, некоторые сочинения которого были переведены на Руси еще в XV в. (известен единственный западнорусский спи¬сок Логики Моисея Маймонида, или Моисея Египтянина, как его называет создатель рукописи, относящийся к первой половине XVI в.)315. Правда, согласно христианской традиции, в Третьем Храме должен был воцариться лжемессия, Антихрист. Тем не менее это должно было служить одним из важнейших признаков скорого (через три с половиной года) Второго пришествия Спасителя.
В связи с этим строительство Опричного дворца царем-помазанником (венчание на царство Ивана Грозного произошло 16 января 1547 г.316) вполне могло рассматриваться в свете подобных представлений.
Кстати, фундамент Храма Господня, который был построен по распоряжению Соломона, должен был быть из тесаного камня317, что еще больше сближает описание Опричного дворца с образом Храма Иерусалимского.
Следовало бы тщательнее проанализировать и размеры Опричного дворца, указанные Штаденом. Как мы помним, он упомянул, что стены дворца протянулись «приблизительно на 130 саженей в длину и на столько же в ширину». Судя по всему, А.Л. Юрганов так и не смог согласовать очевидное, казалось бы, расхождение этих размеров с упоминанием протя¬женности стен Храма, который описывает Иезекииль: по 500 локтей в длину и в ширину318. Выход из видевшегося ему противоречия историк предложил довольно своеобразный: «Г. Штаден обратил внимание на то, что царя во дворце охраняли 500 стрелков: они несли “все ночные караулы в покоях или палате, где великий князь обычно ел”. В послании Таубе и Крузе сообщается: “Он, великий князь, образовал из них [опричников. — А. Ю.] над всеми храбрыми, справедливыми, непорочными полками свою особую опричнину, особое братство, которое он составил из пятисот молодых людей <...>. Все братья... должны носить длинные черные монастырские посохи с острыми наконечниками”. В двух независимых источниках, таким образом, называется одна и та же цифра <...>. В опричном монастыре и в Опричном дворце было не только 500 братьев, но и 500 посохов-тростей. Едва ли такая деталь случайна, хотя обнаруженная связь, по всей видимости, сугубо символическая». Таким образом, исследователь «превратил» монастырские посохи опричников в мерные трости, которыми проводил некий муж измерения для Иезекииля и тем самым, как ему кажется, разре¬шил расхождение в размерах Опричного дворца, упомянутых Штаденом, и Дома Господня из видения Иезекииля319.
Действительно, в синодальном переводе Библии размеры Храма Господня даются не в локтях, а в мерных тростях320. Однако в тексте, бытовавшем во времена Ивана Грозного321, размеры Храма приводятся именно в локтях, хотя упоминается и мерная трость: «И в руцЪ мужу мЪра тростяна шести лактъ и пяди»322. Штаден же дает размеры стен Опричного дворца в саженях. На эту деталь А.Л. Юрганов внимания не обратил. Между тем локти (точнее, локоть с пядью), которыми измеряется Храм, равняются для древнерусского читателя приблизительно 57 см: 38 см (локоть) + 19 см (пядь). Следовательно, 500 локтей составляют около 285 м (57 х 500). Сажень же, которой измеряет («приблизительно»!) стены Опричного дворца Штаден, равняется 216 см (так называемая новая сажень, использовавшаяся в XVI в.). 130 таких саженей составляют чуть больше 280 м. Во всяком случае, в древнерусских саженях содержалось по 4 локтя, т.е. 500 локтей приблизи¬тельно равны для древнерусского человека 130 саженям (500 : 4 = 125). Так что размеры дворца, построенного по приказанию Ивана Грозного, прак¬тически точно соответствуют представлениям читателя XVI в. о размерах Храма, описываемого Иезекиилем.
Произвольно были истолкованы А.Л. Юргановым также изображения льва и двуглавого орла, украшавшие Опричный дворец. С одной стороны, исследователь вполне справедливо отмечает: «Чтобы объяснить значения льва и двуглавого орла в системе уже показанных нами символов Опричного дворца, следует обратиться к религиозной основе этих образов»323. С другой — тексты, которые рассматриваются им в качестве такой основы, вызывают по меньшей мере сомнения.
«В Откровении Иоанна Богослова читаем: “И посреде престола и окрест престола [Божия. — А. Ю.] четыри животна исполнена очесь спреди и созади” (Откр. 4: 6). Этими животными были лев, телец, человек (“тре- тие животно имуще лице яко человек”) и орел. Зеркала в глазницах льва, смотрящих вовнутрь дворца и в сторону земщины, как бы подчеркивали, что первое апокалиптическое животное “исполнено очесь”. Первую печать “книги жизни” снял именно лев. Снятие второй печати тельцом символизировало, согласно толкованию Андрея Кесарийского, “священные жертвы святых мучеников”; третьим животным, снявшим печать, был человек <...>. Любопытнее всего, как определяется в Откровении четвертое жи-вотное, снимающее печать: “И четвертое животно подобно орлу летящу” (Откр. 4: 7) <...>. В лицевых апокалипсисах XVI в. орел изображался с распростертыми крыльями. Именно вслед за открытием четвертой печати по¬является новая фигура, что само по себе симптоматично, если иметь в виду царский замысел: “И видех, и се, конь блед, и сидящий на нем, имя ему смерть: и ад идяше в след его; и дана бысть ему область на четвертой части земли” (Откр. 6: 8). Итак, двуглавый черный орел с “распростертыми крыльями” (т.е. летящий), обращенный в сторону земщины, имеет помимо ге¬ральдической символику апокалиптическую: это образ адского наказания, которое настигнет неизбежно в последние времена»324.
И далее: «В “Беседе трех святителей” <...> Соломон спросил: “Что суть 4 рози [образа. — А. Ю.] на земли? — Иоанн рече: ‘Четыре евангелисты, на востоце Матфей, человеческим; на западе Марко, телчим; на севере Иоанн, орлим; на юзе Лука, лвовым образми, вси бо крылата’ ”. Подобные представления были традиционными, а потому можно предполагать их осуществле¬ние в Опричном дворце Ивана Грозного. Восточная сторона — “человеческая”; западная олицетворяла собой тельца и Второе пришествие Христово; северная — связана с образом орла. Южная сторона не случайно представ¬лена образом льва. Кроме того, орлы на всех трех башнях дворца были так¬же связаны с символическим значением имени Иоанна Богослова»325.
Юрганова не смущает целый ряд принципиальных несоответствий текстов, которые он использует для объяснения символических фигур, с описанием Штадена. Прежде всего, Штаден упоминает не четыре, а лишь два изображения животных. Кроме того, все животные (в том числе изо¬бражение, напоминающее льва), согласно тексту Апокалипсиса, на который опирается А.Л. Юрганов, должны иметь по шесть крыльев «вокруг», а «внутри» «исполнены очей спереди и сзади»326. Но ни одного из этих призна¬ков Штаден не упоминает. Наконец, четвертое животное, о котором идет речь в Апокалипсисе, мало похоже на двуглавого орла, это даже не вполне орел (оно лишь «подобно орлу»). Единственно, что роднит его с орлами Опричного дворца — распростертые крылья. Хотя этот — существенный, по мнению А.Л. Юрганова, — признак вовсе не свидетельствует о том, что Штаден пишет о летящих двуглавых созданиях. О двух же головах орлов, украшающих Опричный дворец, Юрганов предпочитает не вспоминать, видимо считая эту «мелочь» (по сравнению с распростертыми крыльями) несущественной.
Гораздо более плодотворным представляются в данном случае поиски библейского текста, в котором упоминались бы только два животных: лев и двуглавый орел.
Он достаточно хорошо известен. Речь идет о библейской 3-й книге Ездры. В 11-12 главах ее повествуется о видении трехглавого орла, который был побежден львом. Смысл видения Ездры объясняется так: «Орел, которого ты видел восходящим от моря, есть царство, показанное в видении Даниилу, брату твоему327<...>. А что ты видел три головы покоящиеся, это означает, что в последние дни царства Всевышний воздвигнет три царства и покорит им многие другие, и они будут владычествовать над землею и обитателями ее с большим утеснением, нежели все прежде бывшие; поэтому они и названы головами орла, ибо они-то довершат беззакония его и положат конец ему <...>. Лев, которого ты видел поднявшимся из леса и рыкающим, говорящим к орлу и обличающим его в неправдах его всеми словами его, которые ты слышал, это — Помазанник, сохраненный Всевышним к концу против них и нечестий их, который обличит их и представит пред ними притеснения их. Он поставит их на суд живых и, обличив их, накажет их»328.
Образ трехглавого орла тесно связан с «теорией» последнего третьего царства и вполне отчетливо ориентирован на эсхатологические ожидания, приобретшие особую остроту во второй половине XV — XVI в. Этот символ послужил основой для многочисленных толкований (подчас прямо проти¬воположных) в русской богословской среде конца XV — XVII в.329 Тем не менее текст 3-й книги Ездры не принято использовать для интерпретации образа двуглавого орла. Причиной этого, видимо, стали три фактора.
Во-первых, считается, что ни греческий330, ни славянский331 тексты 3-й книги Ездры не были известны на Руси до 1499 г. Только при подготов¬ке Геннадиевской Библии она была переведена с латинской Вульгаты. Это, в частности, подтверждается тем, что в Изборнике 1073 г. в индексах реко¬мендованных и запрещенных для чтения религиозных книг332, упоминание 3-й книги Ездры отсутствует.
Во-вторых, смущает различие числа голов у «опричного» орла и орла Ездры. Так, говоря об отождествлении некоторыми новгородцами и псковичами — членами геннадиевского кружка — двуглавого орла, ставшего гербом Московского царства, и Антихриста (с опорой на 3-ю книгу Ездры), Т.А. Опарина замечает: «Не ясно, видели ли авторы подобных концепций несогласование между двуглавым орлом герба и треглавым III книги Ездры. Возможно, им было важно лишь то, что орел на гербе был многоглавым»333.
Наконец, в-третьих, по мнению Д. Стремоухова, которое разделяют многие исследователи, первоначально восприятие двуглавого орла (как, кстати, и отождествление Москвы с Третьим Римом) носило антимосков- скую окраску334.
Несмотря на всю резонность этих соображений, представляется, что определенные основания для связи изображения двуглавого орла именно с текстом 3-й книги Ездры все-таки имеются.
Прежде всего, следует учитывать, что многоглавые орлы встречаются и в относительно ранних письменных источниках, появившихся на территориях, поддерживавших контакты с католической Европой, где знаком¬ство с 3-й книгой Ездры могло состояться значительно раньше. Так, при описании строительства, которое велось в Холме Даниилом Галицким всамом конце 50-х годов XIII в., летописец рассказывает, что на расстоянии поприща от города был поставлен «столп <...> камен, а на немь орел камен изваян <...> с головами»335. При анализе этого сообщения Ю.А. Артамо¬нов обратил внимание на любопытную деталь: летописец, говоря о головах орла, употребил множественное число («головами»)336. Упоминание не¬скольких голов у холмского орла вполне может быть связано с семантикой образа двуглавого орла в контексте указанного ветхозаветного текста.
Дело в том, что третья — средняя и самая большая — голова орла, о котором идет речь в 3-й книге Ездры, «внезапно исчезла» и «оставались две головы, которые <...> царствовали на земле и над ее обитателями»337. Таким образом, орел Ездры мог изображаться с невидимой третьей головой: как двуглавый. Косвенно об этом свидетельствуют государственная печать самого Ивана IV, на которой присутствует одна большая корона между го¬ловами орла338, а также изображения восьмиконечного креста на голгофе, помещенного между двумя орлиными головами, на печатях Федора Ива¬новича (1585), Бориса Годунова (1602), Лжедмитрия I (1606), Василия Шуй¬ского (1606) и Михаила Федоровича (1636) и, наконец, появление на этом месте на печатях Алексея Михайловича (1654 и 1672) большой третьей ко¬роны, которая сохраняется и в более позднее время, иногда полностью за¬мещая короны или венцы над двумя головами орла339.
Наконец, очевидно, что сам ветхозаветный образ трехглавого орла мог восприниматься неоднозначно (как и связанная с ним «теория» третьего царства). Мало того, даже в одной и той же социальной среде его интер¬претация могла серьезно изменяться340. «Промосковский» или, напротив, «антимосковский» характер этого символа не мог быть задан изначально341. Его семантическое наполнение должно исследоваться специально в каждом отдельно взятом случае.
Обращение к тексту 3-й книги Ездры представляется более продуктив¬ным и логичным для истолкования изображений льва и двуглавого орла, украшавших Опричный дворец. Мало того, этот текст позволяет вплотнуюзаняться вопросом о том, почему, скажем, все двуглавые орлы Опричного дворца были обращены грудью в сторону земщины, а лев — вовне и внутрь дворца...
Теперь обратимся к дате введения опричнины. Как отмечает А.Л. Юрганов, «мы никогда до конца не узнаем, в какой момент и почему царь решил ввести опричнину»342. Однако момент был выбран вполне опреде¬ленный — и, скорее всего, не случайно. По широко распространенным в первой половине XVI в. представлениям, очередной — и, как считали, по¬следней — потенциальной датой Конца света должен был стать 7077 (1569) год343. Однако ему, согласно христианской доктрине, должно было предше¬ствовать «малое время», на которое устанавливается владычество дьявола: три с половиной года. Исходя из этого, дата введения опричнины также представляется вполне логичной и понятной: она учреждается ровно за три с половиной года до ожидающегося конца человеческой истории (что также выпало из рассуждений А.Л. Юрганова).
Не менее любопытным представляется и то, что незадолго до начала опричных мероприятий, в 1549 или в 1550 г. в Москве появляется еще одно довольно странное сооружение: на Пожаре (Красной площади) возводится Лобное место344. Назначение его неясно. Широко распространено мнение, что это было место казней, где рубили или «складывали» «лбы» (головы), отчего оно и называлось Лобным. Обращается также внимание на то, что во многих актах Лобное место называется «Царским». Это принято связы¬вать с тем, что там устанавливали некое «царское место», с которого госу¬дарь объявлял свою волю.
Однако в предлагаемом нами контексте это сооружение приобретает несколько иной смысл, который подтверждается источниками: «Есть же Голгофа мЪсто, идЪже распятся Господь, камень кругомъ высокъ, иже на- рицается Голгофа, исподи же, подъ распятхемъ, ид'Ьже есть глава Адамля, то нарицается Крашево мЪсто, иже есть Лобное...»345 Соответственно, этоместо — место распятия Христа — могло называться «Лобным», поскольку под ним был захоронен, согласно преданию, Адам, а также «Царским», по¬скольку оно связано с Царем Славы346.
Примерно в это же время на подъезде к Москве появляется и еще один «иерусалимский» топоним: Поклонная гора, которая впервые упоминается в так называемой Хронике Быховца, написанной в XVI в. Связь этого топо¬нима с иерусалимской Поклонной горой не вызывает сомнения.
Судя по всему, в преддверии грядущего Конца света Москва отстраи¬валась как столица последнего царства, во главе которого стоял царь- помазанник, взявший на себя функции спасителя своих подданных.
Об этом свидетельствует и косвенная характеристика Ивана IV в летописном рассказе о поводе для развода Василия III и Соломонии Сабуровой, который появился во второй редакции 1547 г. Псковской I летописи (Пого¬динский список): «Того же л'Ьта [7031/1523] поеха князь великии, царь всея Роусии, в объездъ; бысть же шествовати емоу на колесницы позлащеннеи ороужницы с ним, яко же подобает царем; и возрТвше на небо и вид'Ьв гнездо птиче на древе, и сотвори плач и рыдание велико, в себъ глаголюще: “Люте мн'Ь, кому оуподоблюся аз; не оуподобихся ни ко птицам небесным, яко птицы небесный плодовити суть, ни зверем земным, яко зв'Ьри зем- нии плодовити суть, не оуподобихся аз никому же, ни водам, яко же воды сиа плодовити суть, волны бо их утЪшающа и рыбы их глумящеся; и по- смотря на землю и глаголя: Господи, не уподобихся аз ни земли сеи, яко и земля приносить плоды своя на всяко время, и тя благословять, Господи”. И при'Ьха князь великии тоя осени из объезда к Москве и начата думати со своими бояры о своей великой княгине Соломонеи»347.
Часто этот рассказ транслируется историками буквально348. Однако это не что иное как перифраз апокрифического Протоевангелия Иакова: «И огорчилась очень Анна, но сняла свои одежды, украсила свою голову, надела одежды брачные и пошла в сад, гуляя около девятого часа, и увидела лавр, и села под ним и начала молиться Господу, говоря: “Бог моих отцов, благослови меня и внемли молитве моей, как благословил ты Сарру и дал ей сына Исаака. И, подняв глаза к небу, увидела на дереве гнездо воробья и стала плакать, говоря: Горе мне, кто породил меня? Какое лоно произвело меня на свет? Ибо я стала проклятием у сынов Израиля, и с осмеянием меня отторгли от храма. Горе мне, кому я подобна? Не подобна я птицам не¬бесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у тебя, Господи. Не подобна я и тварям бессловесным, ибо и твари бессловесные имеют потомство у тебя, Господи. Не подобна я и водам этим, ибо и воды приносят плоды у тебя, Господи. Горе мне, кому подобна я? Не подобна я и земле, ибо земля приносит по поре плоды и благословляет тебя, Господи”»349.
Ключом к пониманию смысла такого воспроизведения апокрифиче¬ского текста в летописном рассказе служит ответ, который, согласно Протоевангелию Иакова, получила Анна: «И тогда предстал пред ней ангел Господней и сказал: “Анна, Анна, Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире”»350. Речь идет о том, что Анна станет матерью Богородицы, а потомством ее будет Спаситель. Такое понимание рассказа Псковской I летописи подтверждает наши выводы, следующие из сопоставления ретроспективной информации, сохранившейся как в письменных, так и в материальных источниках XVI в., об идеологии, которая легла в основу опричных мероприятий Ивана IV.
Другими словами, летописец вполне определенно охарактеризовал сына Василия III как полномочного представителя Спасителя (если не как самого Спасителя), который устроил для своих подданных «своеобразное русское чистилище перед Страшным судом»351. Когда же Иван IV убедился в том, что Господь не принял его претензию на роль Спасителя (что, в частности, выразилось в сожжении Опричного дворца отрядами Девлет- Гирея сразу по прошествии «последней» потенциальной даты Конца света), опричнина была отменена, а царь начал каяться в содеянном...
В таком контексте все составляющие опричнины — от момента ее введения до конкретных деталей и отмены — приобретают логику и последо¬вательность.